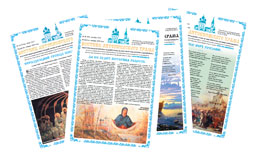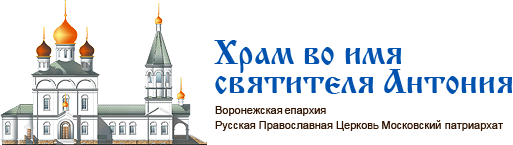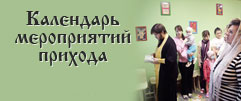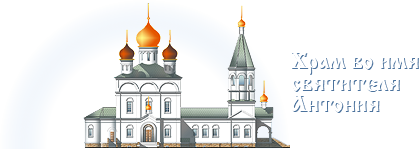НЕВИДИМЫЙ МИР (И.Маркин, с.2 №63)
2 января – день памяти святителя Антония (Смирницкого)
Для людей, всю свою жизнь посвятивших служению Господу, не существует грани, разделяющей бытие земное и неземное. «Мы странники здесь на земле и пришельцы», – эти слова принадлежат воронежскому архиепископу Антонию Смирницкому.
Будущий воронежский архипастырь, нареченный в крещении Авраамием, родился 29 октября 1773 года в селе Повстино Полтавской губернии. С детских лет он отличался благочестием и ревностно относился к храмовой службе. Раз зимой Авраамий спешил в церковь и провалился в прорубь. Жив остался чудом. Наверное, то был знак свыше. Нечто подобное произошло в детском возрасте и с Серафимом Саровским, и с Тихоном Задонским. Та же грань: земной юдоли – и предвечного, знамение по пути к иной стезе. Судьба этих подвижников, пусть и в разной степени, тесно переплетётся с судьбой Авраамия.
Смирницкий долго не решался принять монашество – жаль расставаться с миром! И всё-таки, прочтя Ефрема Сирина, написал будущий архиепископ: «Всё весёлое в мире мне опротивело, и я скорее, бегом-бегом – в монастырь».
13 августа 1796 года Авраамий вошёл в Киево-Печерскую лавру (а выйдет он из неё через тридцать лет, с иным именем и совершенно другим человеком...). Вскоре смиренный инок постригся в монашество с именем Антоний, и его поставили заведовать лаврской библиотекой. Тогда же в качестве послушания Антоний начал произносить собственные проповеди, став впоследствии блестящим проповедником. «Из жизни святых мы яснее постигаем невидимый мир, где сияет Солнце Правды – Христос Бог наш». Это из его проповеди.
Он стремился отметать от себя житейское попечение, очищаться от суеты, приучился к непрестанной молитве. Отличался нестяжательностью и всё, что у него было, раздавал нищим.
С 1808 года Антоний становится начальником лаврской типографии, через семь лет – наместником Киево-Печерской лавры, снискав впоследствии искреннюю любовь монахов и всех приходящих поклониться святыням.
7 сентября 1816 года Киево-Печеры посетил император Александр I. В сопровождении наместника царь побывал в дальних пещерах и очень удивился, когда Антоний показал ему святые мощи Нестора Некнижного, который, не зная грамоты, сподобился мудрости высшей, неземной. О Несторе Летописце самодержец, конечно, знал, а вот почитание другого, «некнижного» подвижника оказалось для него сродни откровению. Возможно, император тогда понял, что светские познания мало что значат по сравнению со знаниями другого, высшего порядка...
Однажды было Антонию видение, в котором его возили венчать с Самою Богородицей,– и то было знамение о будущем его епископстве. Действительно, в 1825 году на освободившуюся Воронежскую епископскую кафедру киевский митрополит, наш земляк Евгений Болховитинов предложил кандидатуру Антония. Святейший Синод дал согласие, и 31 января 1826 года в Киево-Печерской лавре над Смирницким было совершено рукоположение.
Сам Антоний радовался тому, что отправится на воронежскую землю: ведь здесь пребывали два великих святителя – Митрофан и Тихон!.. И пусть оба святых давно окончили свой земной путь, он чувствовал: они здесь именно «пребывали» – в настоящем времени. «Их молитвы, как благонадёжный якорь в душе моей, меня подкрепят и мне помогут».
Прибыв на свою кафедру, святитель Антоний, обустраивая дела, три года не выезжал из Воронежа. Его стараниями была расширена Крестовая церковь, перестроены архиерейский дом, здания консистории и соборной колокольни. Только в апреле 1829 года преосвященный поехал по епархии, и с тех пор практически ежегодно совершал поездки, во время которых посещал каждую церковь, встреченную по пути. Раз за 24 дня он отслужил 22 литургии!
За короткий срок владыка Антоний стал центром, связующим воронежское общество, а его двадцатилетнее архипастырское служение – признано целой эпохой существования нашей епархии.
Здесь он был словно отец многочисленного семейства. Выходя к пастве, благословлял всех, сколько бы народу вокруг ни находилось. В его покоях встречались богатые и бедные, сирые и власть предержащие. «Во всех знаниях и состояниях имеет Господь избранные Себе души», – не уставал повторять воронежский архиепископ.
Своих гостей владыка принимал исключительно как гостей святителя Митрофана, себя же почитая и именуя последним его служкой. «Когда я рассматриваю людей, все они хороши, все святы. Один я нехорош».
Святитель Митрофан незримо поддерживал Антония. В начале 1840 года архиепископ, поддавшись искусу усталости, подал прошение об увольнении на покой, мечтая вернуться в лавру, но внезапно отказался от него, услышав в видении Митрофанов голос: «Епископство есть сораспятие Христу на Кресте, а с Креста не сходят, но им возносятся или снимаются с него».
Строительство духовное Антоний сочетал с непрестанным попечением земным, материальным, ибо не видел в трудах разделения меж ними, но знал, что в жизни всё глубоко взаимосвязано.
В 1840 году край наш поразила сильная засуха. Архиепископ отслужил молебен о ниспослании дождя – и засуха сменилась благодатным ливнем. Это – из духовного.
Он отремонтировал все приходские храмы, построенные в епархии, восстановил Дивногорский монастырь, будто заранее предвидя ту роль, что сыграет Свято-Успенская обитель в искоренении страшной холеры, навалившейся впоследствии на Воронежскую губернию. И что это? духовное ли или материальное? Никто не скажет, ибо то выше человеческого разума.
Холера, как известно, разбушевалась в Воронеже в 1831 году, но ещё за год до того она уже вовсю гуляла по соседним губерниям. Святитель Антоний отслужил в Благовещенском соборе молебное пение об отвращении гнева – и в тот год болезнь счастливо миновала воронежские земли. Холерой Господь как бы очищал и приготовлял Воронеж к достойному празднованию открытия мощей святителя Митрофана.
25 июня 1831 года, после донесения, направленного владыкой Антонием в Святейший Синод, мощи святителя Митрофана были признаны нетленными, а чудеса над гробом и его мантии – истинными. В августе 1832 года преосвященный Антоний возглавил торжества по обретению мощей, на которых присутствовали тысячи верующих со всех концов России. Вскоре архиепископ переложил мощи в новую, подаренную воронежским купечеством серебряную раку. В июне следующего года святые мощи перенесли из Архангельского собора в возобновлённый стараниями владыки кафедральный Благовещенский собор. По его благословлению в Афонском Русском Пантелеимоновском монастыре бы основан первый за пределами России храм святителя Митрофана...
Неустанно трудился он и над прославлением святителя Тихона Задонского, и хотя оно состоялось уже после кончины владыки Антония, именно его Господь сподобил обрести мощи святителя.
А что же труды земные? От них было не уйти. Однажды, когда в Воронеже выгорела Ямская слобода, архиепископ уговорил губернатора собрать живущих в городе дворян и купцов. В помощь пострадавшим Антоний от себя и «от Митрофана» положил тысячу рублей. Видя такое, «лучшие люди» города тоже не поскупились.
Воронежский архиерей вёл широкую переписку: с царской семьей, с задонским затворником Георгием, с Илларионом, затворником Троекуровским, с преподобным Серафимом Саровским и многими другими. Подписывался исключительно так: «Антоний, недостойный епископ Воронежский». А преподобный Серафим Саровский называл Антония великим архипастырем Божиим!..
Как-то саровский старец послал жителя города Мурома к владыке Антонию. Тот оставил муромца на послушание, а затем наказал ему идти в Киев в чугунной шапке тамбовского святителя Питирима. Шапка та весила 17 фунтов и была обшита изнутри бархатом с шапочек святителя Митрофана и Варвары Великомученицы. Послушник ходил в лавру и обратно два раза, ослеп, но зато сделался прозорливым.
В феврале 1843 года Воронеж посетил Игнатий, архиепископ Донской. Преосвященный Антоний, возлагая на Игнатия панагию святителя Митрофана, сказал: «Вы скоро здесь будете архиепископом». Это, как известно, исполнилось. Антоний, кстати, почил в день памяти Игнатия Богоносца... Незадолго до смерти преосвященный Антоний говорил: «Чувствую, что земная моя храмина разрушается». Накануне своей кончины он посетил храм и молился в алтаре. При жизни Антония никто не видел, чтобы он смеялся, хотя лицо его и озарялось улыбкой. Так было и в последний день, 20 декабря 1846 года.
Житие архиепископа Антония – вне нашего понятия о жизни и смерти как чего-то законченного. Святой являлся и в ХХ веке. Так, когда рылся котлован под строительство главного корпуса Воронежского университета, перед экскаваторщиком вдруг возник строгий старец, который своим видом предупреждал: «Дальше – нельзя!». Возмущённый рабочий выскочил из кабины, чтобы отчитать невесть откуда взявшегося на стройплощадке старика, но к своему изумлению никого не увидел. Оказалось, ковш экскаватора чуть не вонзился в усыпальницу, от которой начиналось кладбище Митрофановского монастыря...
За советские десятилетия в обществе сложилось мнение о прославлении в лике святых как о чём-то «прежнем», бывшем «в другой жизни». Но в наши дни прославляют тоже, а может, в наши-то дни – и особо... Именно в наше время Антоний Смирницкий причислен к лику святых, и память его совершается 2 января – в день преставления.
Игорь Маркин
Важные сообщения
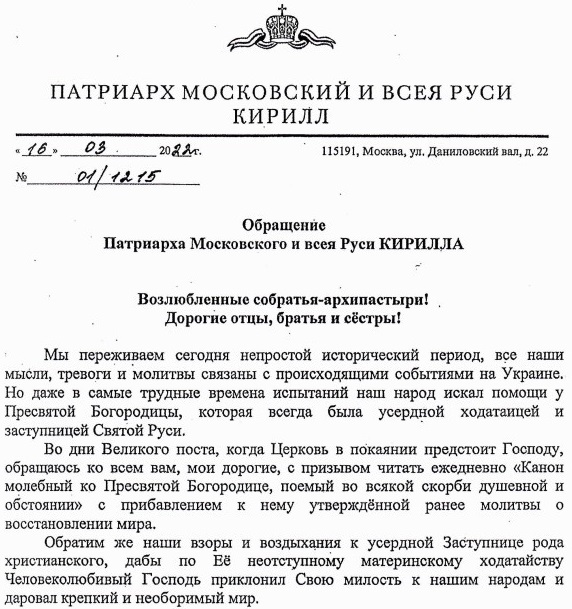
ВО СЛАВУ БОЖИЮ!
Дорогие братья и сестры!
Вот уже несколько лет средствами и трудами православного народа совершается строительство храма во имя святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского. Адрес: г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А. В настоящее время Богослужения совершаются в нижнем приделе храма. Сейчас ведётся сбор пожертвований на оштукатуривание стен храма.
По православной традиции на каждом Богослужении в храме будет совершаться молитва о строителях, благоукрасителях и жертвователях святаго храма сего. И это будет столько лет, сколько будет стоять храм. Пожертвования, пожалуйста, переводите с пометкой «на строительство храма» на карту СБ 5469 1300 1724 1736 она привязана к номеру тел. 89518604040
Адрес храма: РФ, г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Телефон храма: (8-473) 22 608 68
Приходской сайт:
http://www.snt-antonius.ru
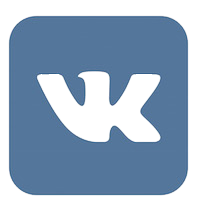

Эл. почта: snt-antonius@yandex.ru
По вопросам совершения треб (Крещение, освящение квартиры, дома или машины, Отпевание, Венчание, Соборование и Причащение на дому болящих) можно обратиться к священикам храма по телефонам: 8-951-860-40-40 Протоиерей Николай Бабич - настоятель храма 8-919-185-78-45 Иерей Владислав Петелин - клирик храма
По воскресеньям в 11.00 - молодёжка в Антониевском храме.
Приглашаем всех интересующихся, любопытных и желающих поближе познакомиться с самым интересным, радостным и дружелюбным миром - миром Православия!
Просьба о пожертвовании
на "Вестник".