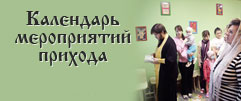ПТИЧЬИ ИСТОРИИ (с.12 №106, Татьяна Грибанова)
ПТИЧЬИ ИСТОРИИ
Мне кажется, о травах, цветах, бабочках и птицах можно говорить бесконечно. Я же с ними – не удивляйтесь! – имею ещё и пристрастие общаться, словно с разумными существами. На каком языке? Закончив ИНЯЗ, можно было бы справиться, подобрать какой-нибудь из ве́домых. Но, на мой взгляд, все эти дивные Божьи создания во всех странах и весях Земли говорят на одном наречии. Они владеют языком доброты, радости, гармонии, счастья и красоты. И ещё чем-то особенным, воистину, Божественным, неземным – отчего, услышав или завидев их, душа, растревоженная, было, всевозможными житейскими хлопотами, приходит в равновесие, и в ней, по словам мудрой моей бабушки Григорьевны, «начинают летать раи».
Помнится из детства, как однажды под Зимнего Николу, а холода раньше в эту пору уже стояли «сурьёзные», пригрела она в печурке подмёрзшую ворону, которая со временем стала нашей семейной любимицей и так обжилась у бабулиной загнетки, что научилась клювом сталкивать с чугунка сковородку и, коли не доглядеть за ней, досыта лакомиться упревавшей к завтраку кашей.
Воробьи же за бабулей – вспоминаю и улыбаюсь – носились по подворью стаей. А всё потому, что в кармане фартука для их сермяжной братии у моей Григорьевны были всегда припасены пару горсточек конопелек.
Добрая старушкина душа не могла смириться с тем, что птичья братия вдруг заголодает, поэтому в палисаднике на ветках нашей сирени желтобрюшки-синички всегда могли сыскать для своего пропитания нанизанные кусочки сальца.
Кстати, зачастую любимцам своим она давала, как велось это издревле среди деревенских, простые уличные, дворовые клички. Ворону-поедательницу каши окрестила, к примеру, почему-то Агашей. Почему так-то? Может, оттого, что у русского человека завсегда так велось: вспомните, как ловко переиначивал он даже имена святых, перекраивая на свой, крестьянский, лад... Прислушайтесь: ведь в имени Агаша, есть что-то от «каши» (той, которую ворона обожала).
Самая проворная синица у бабушки звалась Пронырка; воробьи же за их душевную простоту – все как один – кликались Емельками.
Видимо, от неё, от моей ро́дной, повелось и в моей привычке разговаривать при каждой встрече с пернатой братией; со всеми цветами и травами, а с лечебными, которые из года в год в урочный час собираю, памятуя мудрые её наставления – тем паче.
И не могу удержаться, чтобы не наполнить свои стихи ли, прозу ли с малых лет понятным щебетаньем, теньканем и пересвистом крылатого племени; ароматом аниса, душицы и шиповника; порханием над капустными кочанами огородных лимонниц, штапельным облачком перламутровых мотыльков над речным берегом, поросшим небесными незабудками, бархатными опахалами крыл томных бражниц у крылечного фонаря поздним летним вечером... Вот уж сколько лет, как прижились они на страницах моих книг в вымышленных мною лесах и перелесках, в долинах рек и у обочин просёлков.
К этому миру у меня какая-то не то что не ослабляемая с годами, а наоборот, всё усиливающаяся любовь. Видимо, впитавшаяся в меня купальскими росами, когда я следом за бабулей в поисках земляники, грибов, «пользительных корешков и травок» истопала вдоль и поперёк все леса и холмы моей родной округи.
В лесу-то как бывает? Порой и не разобрать в общем хоре голоса отдельных птиц. А Григорьевна остановится, бывало, прижмёт палец к губам: мол, притихни, прислушайся, вишь ты, как зорянка выводит. Раз от раза, «пообтёршись» в лесных кущах, начну и я различать и соловьиное щёлканье, и голоса-подголоски всевозможных печёночниц, горихвосток, ласточек да трясогузок; разбираться, чем отличается одна былинка от другой, и на какое доброе дело она может сгодиться.
Кто уж придумал и почему именно в этот день – 11 декабря – одна из знакомых мне, да и многим тоже, пичуг празднует свои именины? А дата эта называется СОЙКИН ДЕНЬ. Узнав об этом, припомнила я, что в повести «Так и жили» есть у меня несколько строк, посвящённых этой птице.
«…Вьётся, вьётся невыцветающим домотканым половиком узкая стёжка ... вдоль бакши она вьётся или вдоль Алёниной судьбы? Или это всё же выплетается её тонкий прозрачный старческий сон?
Завяжи Алёне сейчас глаза – даже спустя уйму лет сумеет не обмишуриться, с одного погляду укажет одно из своих самых заветных мест на гурьевском подворье. Если посередь бакши повернуть и межой обочь луковых гряд подойти к кусту чёрной бузины, что вымахал выше ореховой горожи, выше всех остальных огородних обитателей, можно кой-кого обнаружить.
Каждую пахоту дед грозится этот куст срубить, а баба Дарья, прижавшись спиной к ветвям и разведя руки в стороны, его не даёт в обиду. Растаращится и вступается за бузинник, словно клуша за свой выводок. По её словам, «помочи от той-то бузины больше, чем от самого деда Силы».
Так вот, если тихонечко прокрасться к этому кусту, то в его зарослях, на самой дальней-предальней ветке, что прикрыта от глаз порослью всякого-разного вьюна и дурнопьяна, каждый апрель несколько лет кряду из сухих корешков и травинок обустраивает себе гнездо удивительная птица – голубая сойка. Бабушка, правда, бывало, когда завидит её над огородом, кличет по-свойски: «соя!..».
А птица эта и впрямь расчудесная – из себя голубоватая, а подбрюшье слегка коричневое, цвета пеночки из топлёного в печи молока. Шейка – белым-белая с чёрными нитками ожерелок. На головке – малюсенький гребешок. Чуть что, заподозрит сойка неладное – взъерошит, вскинет его, крохотный: видать, думает, что вусмерть им врага запугает. А то и вовсе – ка-ак начнёт ворчать: и по-собачьему, и по-кошачьему, и ещё по-другому – такому, по какому выучилась.
Кончики крылышек у неё окунуты в небесную краску, и окружья глаз голубые-преголубые! Так и горят они, так и сияют! А под клювом у неё, будто усики, две чёрные полосочки. «Не птичка, а картинка!» – скажет, бывало, об Алёнкиной сойке баба Дарья.
Вот отчего-то припомнилось вдруг Алёне и такая картинка. Спустя две, а то три недели, как пичужка усядется на гнездо, девчонка, бывало, обнаруживала на земле скорлупки зеленоватых, с серо-бурыми пятнышками, меньше лещинного орешка, яиц. В гнезде тонюсенько под раскрылившейся мамкой попискивали голые новорождённые птенчики, а суматошный родитель носился над грядками, собирая для своей детвы червячиный и блошиный прикорм.
Бывает, пропадёт сой в дубняке за околицей, нет и нет его. Уже и хозяйка его забеспокоится – как не встревожиться-то? Эвон сколько котов в деревне, да и своей сестры, птицы хищной, вдосталь, возьми хоть того же ястреба, что обретается в ближнем сосняке. «Не переживай, сойка, – успокаивает, бывало, птичку Алёнка, – куда он от семьи денется, сколь годков уже вместе?».
А и правда, прислушается Алёнка: «Кре-кре-рахх-рахх!» – объявился, жив-здоров кормилец. Так и мало того, желудей натащил – даже лететь не может, «пёхом чешет», корму – ешь не хочу. «Под языком-то у него, – усмотрела Алёнка, – цельный мешок для таких переносок имеется».
Мужичок у сойки, хоть сам – в чём душа держится, заботливый, такого днём с огнём поискать. И тут, и там – у соя припасы. И правильно! Обернуться не успеешь: крот в земь уйдёт, повиснет на кустах седое бородьё повилик – уж и захолодает. Летать туда-сюда, на юга да в обратку, умаешься – легче поднабить закрома да перебедовать лихое холодное время в своём дому...».
Татьяна Грибанова
Важные сообщения
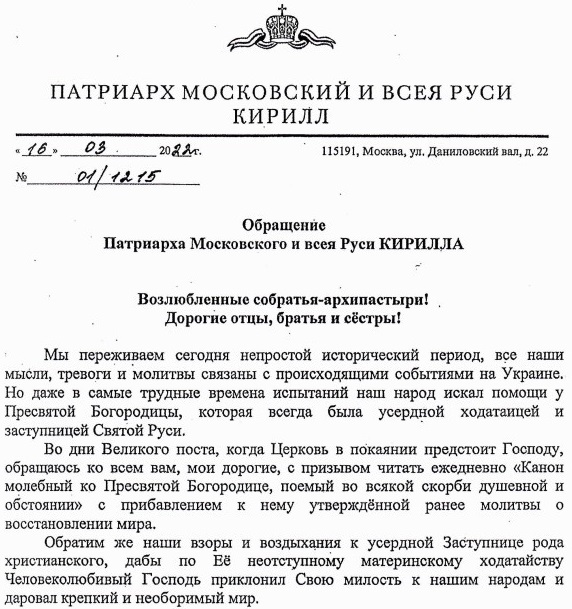
ВО СЛАВУ БОЖИЮ!
Дорогие братья и сестры!
Вот уже несколько лет средствами и трудами православного народа совершается строительство храма во имя святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского. Адрес: г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А. В настоящее время Богослужения совершаются в нижнем приделе храма. Сейчас ведётся сбор пожертвований на оштукатуривание стен храма.
По православной традиции на каждом Богослужении в храме будет совершаться молитва о строителях, благоукрасителях и жертвователях святаго храма сего. И это будет столько лет, сколько будет стоять храм. Пожертвования, пожалуйста, переводите с пометкой «на строительство храма» на карту СБ 5469 1300 1724 1736 она привязана к номеру тел. 89518604040
Адрес храма: РФ, г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Телефон храма: (8-473) 22 608 68
Приходской сайт:
http://www.snt-antonius.ru
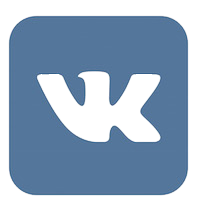

Эл. почта: snt-antonius@yandex.ru
По вопросам совершения треб (Крещение, освящение квартиры, дома или машины, Отпевание, Венчание, Соборование и Причащение на дому болящих) можно обратиться к священикам храма по телефонам: 8-951-860-40-40 Протоиерей Николай Бабич - настоятель храма 8-919-185-78-45 Иерей Владислав Петелин - клирик храма
По воскресеньям в 11.00 - молодёжка в Антониевском храме.
Приглашаем всех интересующихся, любопытных и желающих поближе познакомиться с самым интересным, радостным и дружелюбным миром - миром Православия!
Просьба о пожертвовании
на "Вестник".