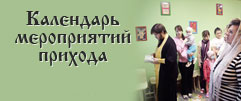КРИЗИС (с.18 №109, В. Киляков)
КРИЗИС
Мой дядя Михаил был призван осенью сорок третьего года, дошёл с боями до Германии, где и служил затем в войсках НКВД, дослужился до чина старшего лейтенанта. Я знал, что он в каких-то секретных войсках, в каких – вопрос. И когда мой отец спросил его, уже штатского, он ответил, вперив в него взгляд своих колючих серых глаз: «Тебе знать не полагается!». Так и умер секретным, несмотря на то что мой дед – его брат – был в плену.
Дед перед кончиной видел плохо, но очков не носил и мог прочитать на агитплакате, приклеенном к стенке избы, крупными буквами: «Кризис». На красном плакате во весь рост высился русский молодец с анатомической мускулатурой и почему-то – в фартуке. А внизу – мелко, едва по колено ему, чернела нечисть капиталистов с мешками денег. Оскаленные зубы, глаза навыкате: чёрные банкиры с мешками, мироеды-монополисты...
Избу время от времени изнутри переклеивали и, чтобы не тратить зря деньги на обои, очень дорогие тогда, вместо обоев оклеивали старыми агитплакатами, обложками цветных журналов, календарями и аппликациями. Зайдёшь в гости и тотчас видишь: «Пятилетку – выполним!» – плакат на стене, или: «Съезду КПСС – новые свершения!». А у станка на плакате – не токарь, а Илья Муромец, разве только без доспехов.
– Кризис?! – переспрашивал дед, как бы не доверяя и глядя вблизь. Он рассматривал нечисть под ногами молотобойца (и, как я теперь понимаю, эти картины не лгали: кризис на Западе был, и впрямь: голод, безработица...). – Кризис, вон оно как!..
Смысл загадочного слова он понять вряд ли мог. Но улыбка толстого банкира-скалозуба была ему весьма не по душе. Нам, детям, в школе объясняли, что это «кризис перепроизводства». Рассказывали, как молоко выливают в реку, хлеб везут на свалку, а люди с семьями, с детьми – мрут с голоду. Это было непонятно, неестественно, глупо, наконец. И дед отказывался верить в такие «выдумки».
– Хм, где ж это достали такую картинку-то? Как кро́вцы напился, вот этот, с мешком – того и гляди лопнет!.. – И, опираясь на руки, указывал на четверостишие внизу: – Ну-ка, прочитай, что там написано, ты ведь письменный, в школу ходишь...
Я читал эти подписи так много раз, что затвердил волей-неволей на всю жизнь, а в тот день, помню, отбарабанил деду нечто обычное по тем временам, но нас, нашу страну вовсе не касающееся: «Мы богаты и сильны, край наш славен миром, но разжечь пожар войны хочется банкирам».
– Ты гляди-ка: это, оказывается, банкир. Надо же! Я сослепу думал, что это председатель райпотребсоюза, а это, – улыбался дед Терентий, – банкир?.. Надо твоего дядю Михаила спросить: может ли так быть или нет? Чтобы все голодные, а он один – сытый, банкир. И все деньги – его, и весь хлеб – его. А чтобы никому не досталось – он топит в море хлеб, молоко льёт. Чтобы цены взвинтить. Да его, этого банкира, НКВД запытает...
– Там нет НКВД, – напоминал кто-то из гостей деду.
– Ну-у, нет. Как это нет? Есть, по-другому только называется.
Когда дед Терентий балагурил при гостях, горница наполнялась смехом. В школу он, как говаривал, ходил «три зимы», а потом отправился с братьями плотничать. Будучи молодым, много читал, на свой лад пересказывал «Хаджи-Мурата», «Тысячу и одну ночь». Говорил и о чудесном пришествии Иисуса Христа на нашу грешную землю: спустился, будто бы, с неба Сын Божий на длинных верёвочных вожжах и шёл морем пеш, в лаптях, в домотканой синей рубахе, а штаны были в заплатах: «Вот так вот идёт. Правду ищет, совесть... а правды как не было, так и нет».
– Ага, так оно и было, – подначивала бабка, – прямо как ты, такой-то босяк. Ты хоть мало́му-то не ври: «в рубахе домотканой, в лаптях идёт сушей, морем...». А я, грешница, не ходила в школу и читать не умею, а монашенки говорили: босиком Христос, а не в лаптях. И на иконе Он босиком распят. Чего ты мало́му врешь? И что на вожжах с небес спустился...
– Да это и не так важно, на чём Он спустился! – горячился дед, глядя на нас с волнением, и сам веря своим словам. – Какая разница? Главное – чего Он искал! И нашёл ли...
– Я вот учительнице скажу, чему ты внука учишь, она тебе спасибо за это не скажет, нет...
– Говори, не боюсь. Теперь не при Сталине, всё можно говорить!
Сталина дед боялся до самой смерти. Старики рассказывали – и смеялись, а один, Кузьма Лукич, напоминал мне впоследствии: «Как только начинали говорить про Сталина, твой дед сразу вставал и уходил от этих разговоров. Не желал слушать. И никто не знает: то ли боялся, то ли уважал. Сталина все боялись. Да и побоишься – сажали за язык». Кузьма был моложе деда, но мне они тогда казались ровесниками, стариками. Быть может, не всё понимал и Кузьма, не служивший и не воевавший, или делал вид, что не понимает. Дед, фронтовик, как-то поведал, что москвич-солдат, с которым свела его судьба на фронте, уцелевший в битве под Москвой, рассказывал о параде на Красной площади, с которого их отправляли на войну, так: «Я неотрывно глядел на Сталина на мавзолее – и будто услышал глас о Победе. Сталин был на своём месте, как всегда. Во все годины лихолетья и в праздники Сталин был с народом». Кроме боязни было и ещё что-то, чего дед никогда и никому не говорил. Он унёс это «что-то» с собой в могилу. А тогда в нашей избе спорили фронтовики, тыкая протезами в плакат:
– Да ты знаешь, почему победили под Москвой? А я тебе скажу: горючка у нас была что надо. Нефть настоящая, природная, кавказская, а у немцев – синтетика, искусственная. У немцев при морозе танки останавливались, а наши – нет. Сначала грязища непроходимая была, и немец тонул вместе с вооружением. А уж мороз вдарил – ох, и дал жизни мороз!.. У них же, у немцев, вся горючка завезённая была, европейская туфта. Хорошая горючка была только для самолётов. Тактика их «блицкриг» называлась, то есть молниеносная война – из-за горючки она и провалилась: на лето рассчитывали. А Сталин – да, стоял! Не сбежал, не заполошничал. И вида не подавал: никто не знал, боится он или нет. И теперь не знают.
– Врагов да трусов высматривал с мавзолея-то, – шутили. И как понимали друг друга с полуслова сидельцы, отбывшие срок, фронтовики-инвалиды, штрафбатники и весь тот тёртый люд, что бывал у нас!.. Такой жёсткой критики я не слышал нигде никогда и впоследствии: критиковали всех, кроме Верховного, хоть пора была уже для критики подходящая, оттепельная. Дед же, больной, в подшитых валенках сидя на кровати, курил и рассказывал о войне:
– Пушки на деревянных колёсах, колёса – как на телеге, руками крутили их... В бинокль смотрю: среди трупов немцы гуляют, в полный рост, ничего не боятся. Кажется – рядом, рукой подать. Нашли у нашего убитого кресало с фитильком, кисет – хохочут, друг другу показывают. У них-то тогда уже были зажигалки на бензине, фонарики ручные, для нас – диво дивное. Ну, я примерился, долго держал одного на мушке. Потом что-то ёкнуло во мне: попаду или промахнусь – а нас всех положат. Хлоп! он за коленку цап рукой – я его по ногам задел, упал он. Сразу стрельба, крик, шум. Еле выбрались. Эх, и крыли меня ребята-разведчики: надо было тихо уйти.
Собирались все бывалые, иные и отмотав немалые сроки сталинских лагерей. Здесь в беседах страдания как бы делились между рассказчиками, и жизнь становилась терпимей, легче... Всё шло в дело: и вольное переложение «Хаджи-Мурата», и чудесное Пришествие: как оно будет, и что будет, если Он придёт. И как Он по морю пойдёт, как спустится, как оглядится – «вот так вот»... разумеется, в лаптях, что б там ни говорила бабка, чего она понимает!
Дед в войну был призван уже немолодым. Перед войной прожил недолгую трудную жизнь, прижив пятерых детей: «пять узлов на сердце, по ребёнку узел». Однажды, шутки ради, на фронте кто-то вытащил из его винтовки затвор. А времена суровые: «ни шагу назад», «ни пяди земли врагу». И тут – порча оружия, потеря затвора! Пахло расстрелом... Молодой лейтенант перед строем так и сказал деду: «Не найдёшь затвор – через два часа прострелю!». Шутники сжалились, вернули важную деталь. Дед так и не узнал, кто подшутил.
– И что, расстреляли бы? – не верил не воевавший Кузьма. Дед только молча взглянул на него, ничего не ответил. Но взгляд этот, полный муки и горечи, я, ребёнок, запомнил на всю жизнь...
Фронтовики рассказывали много. И изо всех этих историй можно было заключить твёрдо, что страну отстаивали тяжело, победу собирали по крупице. И всем было ясно: всё, что собрано с таким трудом, такой кровью, такими по́том и болью, мы никогда уже не отдадим никому. И уж тем более – этим зубастым намалёванным банкирам американским и европейским с мешками, доверху набитыми купюрами. Не отдадим, как бы они ни старались.
– Война прошла, теперь все герои, – говорил дед. – А тогда молоденькие, считай, дети брошены были на передовую. Как сейчас помню: сидим мы в землянке, я и мальчишка лет восемнадцати, как мой сын, Ванятка... Где-то далеко ухает тяжёлая артиллерия. А в землянке на сколоченном из досок столе от взрывов гремит посуда, сквозь бревенчатые накаты сыплется сухая глина... Стреляли дальнобойные пушки наши, и далеко. И всё же было как-то жутко. Вечер, дожжок накрапывает. Накинул я шинельку – выйти до ветру. А лейтенантик из пополнения вцепился мне в шинель: «Не уходи, я боюсь». Пополнение только пришло утром, и все ждали приказа наступать. Ему завтра в бой, а он и в землянке один боится!.. Ох, и побило нас тогда! В поле стояли копны сена. На рассвете немцы нащупали нас миномётами: один вперёд кладут, второй назад, а третий летит прямо, кажется, в голову. И солдатики, дети эти – давай прятаться в копны. В чистом поле копны вспыхивали от взрывов, они перебегали друг к другу, паника... Кричу своему: «Ко мне, ко мне, в канаву!..» – где́ там, ошалели от страха: первый же их артобстрел. Ох, и положили нас тогда!..
И бывалый люд внимал деду тихо, муха пролетала – слышно. Тут были и пленные по войне, и сидельцы – по болтовне, по хищениям с полей в сорок шестом-седьмом году в голодовки, и по пьяному делу за драки... Уже тогда, слушая разговоры, я узнал, что редко кто сидел вовсе «ни за что, ни про что»: что-то да было. Дело другое, что кто-то не успел пожить с краденого – посадили... Тогда не объявляли громогласно «войну коррупции и взяточничеству», не грозили «закрыть счета». А закон о «колосках» звучал так: «Расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже десяти лет с конфискацией всего имущества за хищение урожая на полях, общественных запасов, скота, и т.д.».
– Жёстко? – переспрашивал деда брат Михаил и сам отвечал. – Да, жёстко. Но это постановление от тридцать второго. А в районе в сиротском доме кухарка недодавала детям хлеб, кашу – таскала свиньям. И это в сорок шестом! У троих детей – от голода водянка, у двенадцати – дистрофия с осложнениями. И что делать с ней?..
Вспоминая дядю Михаила, и мытарства деда в войну, и судьбы сидельцев, первое, что вижу – плакат с надписью: «Кризис». И не могу оторваться от мысли: за что же, за какую страну воевали, голодали, страдали эти люди? И кому досталась она – страна, которую сохраняли законами, победами на военных и трудовых фронтах, подвигами? Не растащили ли её по офшорам?.. А при слове «кризис» вспоминаю 92-й и 93-й годы, Подмосковье, пустые прилавки магазинов, пенсионеров, заглядывавших со стыдом в мусорные баки в поисках съестного – притом, что вокруг Москвы и областных городов стояли о ту пору железнодорожные составы, забитые продуктами, товарами, рефрижераторные вагоны, загнанные в тупики... И вижу внутренним зрением агитплакат из детства – и деда-фронтовика. И понимаю: что́ совершалось, свершается сегодня, да уже и свершилось. Дед поворачивается ко мне и, подмигнув лукаво, спрашивает:
– Ну, и как они тебе, олигархи-банкиры? Ох, и толстое мурло, как кро́вцы-то людской насосались!
Василий Киляков
Важные сообщения
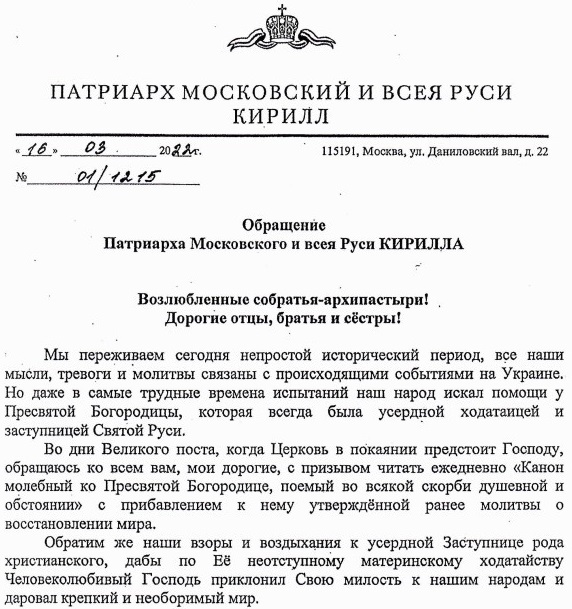
ВО СЛАВУ БОЖИЮ!
Дорогие братья и сестры!
Вот уже несколько лет средствами и трудами православного народа совершается строительство храма во имя святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского. Адрес: г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А. В настоящее время Богослужения совершаются в нижнем приделе храма. Сейчас ведётся сбор пожертвований на оштукатуривание стен храма.
По православной традиции на каждом Богослужении в храме будет совершаться молитва о строителях, благоукрасителях и жертвователях святаго храма сего. И это будет столько лет, сколько будет стоять храм. Пожертвования, пожалуйста, переводите с пометкой «на строительство храма» на карту СБ 5469 1300 1724 1736 она привязана к номеру тел. 89518604040
Адрес храма: РФ, г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Телефон храма: (8-473) 22 608 68
Приходской сайт:
http://www.snt-antonius.ru
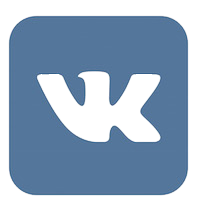

Эл. почта: snt-antonius@yandex.ru
По вопросам совершения треб (Крещение, освящение квартиры, дома или машины, Отпевание, Венчание, Соборование и Причащение на дому болящих) можно обратиться к священикам храма по телефонам: 8-951-860-40-40 Протоиерей Николай Бабич - настоятель храма 8-919-185-78-45 Иерей Владислав Петелин - клирик храма
По воскресеньям в 11.00 - молодёжка в Антониевском храме.
Приглашаем всех интересующихся, любопытных и желающих поближе познакомиться с самым интересным, радостным и дружелюбным миром - миром Православия!
Просьба о пожертвовании
на "Вестник".