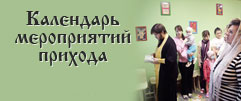ПРОСТАЯ ДУША ( с.13 № 116, Василий Киляков)
ПРОСТАЯ ДУША
Удивительное было лето того года, Москву и Подмосковье залили дождики, в лесах стояла вода, и до самой осени не было грибов, даже опята появились только в конце августа.
– Поедем к бабушке, – сказал я отцу, – наверняка грибы пошли...
И мы поехали на свою «малую» родину, в самую что ни на есть глухую провинцию. От станции Сасово ехали на грязном «пазике», на дороге стояли лужи. Слева и справа – непроходимая рожь, уже почерневшая от дождей, и такая густая, такая тучная, что даже местные пассажиры, рабочие из бригады механизаторов говорили: «Хлеб ныне – густ. Колос к колосу, даже и уж не проползёт... Да вот только дожди залили, погибнет, похоже, и хлеб. И картошку залило... Грибов – тьма, да все белые...».
Автобус с шаткими ободранными сиденьями гремел обшивкой, часто останавливался, объезжал ямы, полные воды, мелкие лужи. Не доехав километра до нашей остановки, шофёр объявил:
– Слезайте, дальше не поеду, дорогу залило...
Мы выбрались и пошли пеш просёлочной дорогой. Как только свернули с большака, идти в ботинках стало невозможно, мы разулись и шли босиком. За плечами рюкзаки, в руках обувка. Сначала шли кукурузным полем, потом заглохшим в разнотравье свекловичником, сплошь в мокрых бороздах, в лебеде, в васильках с повиликой.
– Свёкла пропала, – с грустью в голосе проговорил отец, – не пропололи вовремя.
А всего идти-то было километра три с небольшим. Но такой липкий был чернозём, так разъезжены были тракторные колеи, что пришлось тянуться краем поля, а потом и полем напрямки по бездорожью.
Когда дошли до ржаного, отец остановился, закурил и долго смотрел на скошенные для скотины снопы в серой болотной жиже, на сорванные колоски – тучные зёрна уже поспели. Постоял, переживая, что-то вспомнил, изрёк нечто о поре своей молодости: «Вот так. Разреши пять колосков, полполя подберут»... И добавил:
– Эх, и хлеба были бы, если б не дождики... Смотри-ка, такую рожь я не видел в наших местах... Какой-то новый сорт. Начали уже убирать, верно, да помешали дожди.
Кое-где уже стояли почерневшие копны. Шёл сначала мелкий, а потом мало-мало разошедшийся в ливень дождь, как серая сетка всё застило вокруг.
До деревеньки, где жила бабушка, было уже близко, а мы шли по колено в траве, без дороги, без разбору, по клеверу второго укоса. Был девятый час, а казалось, что всё ещё раннее утро; проливной дождь хлестал не переставая, и за какие-то полчаса на нас нитки сухой не осталось.
– Ой, приехали! – стукая щеколдой и отворяя дверь, обрадовалась бабушка. – Снимайте с себя всё, я тут вам обутку найду, сухую одежонку... Господи, и что за напасть такая: дожжи и дожжи... И ни проехать, ни пройти. Хлеб неделю не везут, а пеш не доберёшься... А вы хлебца-то не привезли из Москвы, не догадались?
– А мы думали... – сказал отец и начал хлебать щи без хлеба.
Бабка полезла на печку, вытащила мешочек с сухарями и, высыпая горстями в тарелку, рассказывала о местных порядках, а точнее – беспорядках, что начальство меняется, как рукавицы, хлеба небывалые, а всё преет и гниёт...
– Как раз к грибам приехали, – говорила бабка, со стуком меняя ухваты. – Тут приезжие гости грибов обтаскались, носят кошёлками бельевыми, да всё дубовые...
– Белые есть? – переспросил я.
– Говорю же – дубовые, по-вашему – белые. Никакие они не белые, а скорее, коричневые, поджаристые, как булки из печи...
Часа через два перестал лить дождь, выглянуло солнце, ослепительно заиграли влагой травы, заблестел солнечными бликами потолок в избе от огромной лужи под окнами; радостно зачиликали на крыше воробьи, и в доме не сиделось.
– А пойдём-ка за грибами, – сказал я отцу, беспрерывно курившему у окна, смотревшему на мокрую улицу.
– Ну-у, за грибами? Там теперь и в сапогах не пройдёшь поди-ка, – сказал он с неуверенностью, – вот подсохнет, обдует...
И всё же стали собираться. Старенькие рубахи, штаны, тапочки, ботинки с косо сбитыми каблуками – всё это вытаскивала бабка из чуланчика:
– Ну-ка, примеряйте!
– Эх, сапоги не привезли... И как это я не подумал про сапоги? – то и дело сокрушался отец, вдалбливая ноги в обрезки жёстких кирзовых сапог с разбитыми каблуками, – и про хлеб... тово... не вспомнили... Оплошали.
– А вы лапти наденьте, – посоветовала бабушка. – Я тут у Прокофия купила дайча...
Мы засмеялись, а бабка обиделась:
– Ну-к ва-ас, не графья... У меня вон печь простыла, пока я за вами ухлёстывала. Как раньше-то – косили в болотах, и убирали в полях хлеба, ходили в сельмаг за семь-восемь вёрст – всё в лапотцах, в них, родимых... И легко, и ноге любо.
– А что, – согласился вдруг отец, – милое дело – лапти. Теперь и в сапогах не вылезешь из лесу сухим: места тут – колдобины, канавы да болота.
– Какие неаккуратные... – проговорил я, рассматривая лапти.
Мотая на ноги портянки, отец молчал, он знал толк в лаптях. Когда-то ходил в школу в этой диковинной музейной обуви, плёл их в детстве.
– Неаккуратные – потому из крупных лык, а вот если бы лыки помельче – другое дело, – молвил он, отдуваясь.
– Да ему без малого девяносто, Прокофию-то, видит плохо. Да он и не хотел плести, это я ему в начале лета лыки заготовила, упрашивала, самогону литр выпоила да ещё заплатила тыщшу рублей на хлеб-соль, вот вам... А не хотите – как хотите...
Лапти обували долго, хилые оборы рвались... Бабушка смеялась. И как только снаряжение было готово, большие кошёлки повесили мы на плечи, а она взяла суковатый батожок и вышла нас провожать, как бы в какой-нибудь дальний путь.
Шли напрямки по густой, зелёной, хватавшей за ноги траве, заброшенными огородами, мимо развалившихся изб с забитыми тёсом окнами, косившими дверями, банешек с голыми стропилами... Не успели добраться до опушки леса, уже были – хоть выжми от росы, но идти было легко, из лаптей сочилась вода.
Солнце светило ярко и близко, и вода в провалах и лесных низинах согрелась. Воздух стал тёплым от влаги. Ослепительно блестели на опушках мелколесья цветы и травы, вспархивали тетерева, трещали сороки на высоких осинах. По выгону рассыпалось стадо нетелей – молодых коров, за ними ходко с собаками тянулись пастухи верхом на конях.
На лесной дороге встретились нам две молодые женщины и посмотрели на нас, как призраки, пришедшие из давних времён, на наши лапти и кошёлки. Временами в лесу слышались голоса – возвращались грибники с корзинами грибов.
Места глухие, медвежий угол, за десятки километров от больших дорог, грибы собирали городские гости. Грибов было так много – как говорят, «хоть косой коси», но, видно, от проливных дождей и не просыхающей влаги, в «вымочках» почти все, даже молодые белые грибы побили черви-слизни, приходилось долго выбирать самые маленькие, молодые, иногда растущие по шляпку в воде. Целыми куртинами попадались обабки – не семьями, а, я бы сказал, стаями.
– А ведь и верно говорила бабка, что в лаптях хорошо, – напомнил я отцу, продираясь через густой ежевичник, до крови кусавший руки, терновник, непроходимо разросшийся на краю оврага. – В сапогах всё равно были бы теперь мокрые ноги, да ещё и с мозолями... Да и времена наступили теперь такие, что обувь надо беречь.
– На лапти переходим, – пошутил отец. – Откроем кооператив по производству лаптей – «Отец, сын и К°»...
Солнце так разогрело молодой смешанный лес, куртинки, лесные тропинки и коровьи прогоны, что от испарений, аромата цветов и трав, густо разросшихся на опушках, было трудно дышать. Тонко курилась дорога на опушке леса, источая влагу.
Мы возвращались домой, когда услышали женские голоса. Женщины сидели возле дороги, отдыхали, закусывали. Кошёлки, полные грибов, покрыли сверху луговой мятой. Яичная скорлупа, кожура от картошки, сваренной «в мундире», – всё аккуратно собрано в кучу на обрывке газеты.
– День добрый, – сказали мы, проходя мимо. Они ответили на разные голоса, и одна из них, та, что постарше, проговорила:
– Теперь лапти днём с огнём не сыщешь, хоть сторона наша и лапотная. Мне бы сплели, я уплачу...
– И мне, – проговорила сидевшая ногами вперёд белобрысая молодуха с крутой грудью, румяная и с крепкими локтями, и звонко засмеялась. – И мне, только побыстрее, а то все ноги в мозлах...
Возле корзин сушились носки, резиновые сапоги; женщины пили из фляжки компот вкруговую; они жили в соседней деревне, а мы их не знали.
– А вы чьего же двора будете? – спросила та, что всех старше.
Мы назвались. Она, подумав, проговорила: «Знаю вашу бабку, а вас не знаю».
Верхушки осин весело трепетали листьями, полуденное солнце нестерпимо жгло. Мы шли без дороги сначала мелколесьем, а потом свернули на полевую торную дорогу, раздавленную тракторами вдрызг. Подсолнухи в цвету приветливо полыхали золотыми головками, волнами переливалось это удивительное жёлтое море, сквозившее ослепительными лужами в низинах.
Показалась деревня, точнее – то, что осталось от деревни: высокие старые тополя, вязы, разорвавшиеся повдоль от собственной мощи, разваливающиеся избы, заброшенные подворья и заглохшие в крапиве, задичавшие сады. Мелколесье подступало к избам, как бы шло в наступление, угрожая огородам и садам и всей деревеньке заполнить, забить чапыжником, стереть с лица земли.
– А когда-то выкашивали все куртинки лесные, трынки не оставляли у канав, – говорил отец, с грустью поглядывая на огороды, сплошь заросшие травой, желтеющей метликом. – Лет через десять всё зарастет, как будто и не жили здесь... А какие сады когда-то цвели тут, у самой деревеньки были колхозные огороды с капустой, огурцами.
– «За сноп цветошника и травы у усадьбы – за топоры хватались. Сколько корма на неё надо!.. А где взять...».
Молодняк, нетели, стояли и лежали в загоне, огороженном жердями. Утопая в навозной жиже, скотина жалась к углам, где посуше, а чуть поодаль под навесом из грубой ткани спали два пастуха, тотчас видно, что мертвецки пьяные; хрустели травой две лошади, брехал серый кобель, а пастухи так и не проснулись, спали вповалку, как убитые, навзничь. Открытые дыры ртов были страшны, веки точили мухи. Возле – пузырьки одеколона с пляшущей красавицей и на мятой газете с просыпанной махоркой – кнут и скорлупа от яиц.
Напротив окон бабушки стоял хороший ещё дом под жестью, с заколоченными окнами и сломанным громоотводом. Пушкой в небо торчала матица скотного двора, частокол упал и гнил в густой траве. И ни единой души кругом, как будто все вымерли. Как будто нейтронная бомба взорвалась здесь, убив всё живое и опалив мёртвое...
– Земля не терпит предательства, – с грустью в голосе сказал отец, когда мы проходили мимо заброшенного огорода и задичавшего сада. Он остановился.
– Какого предательства? – не понял я.
– Все дома, гнёзда свои бросили, убежали, кто куда сумел. А поговоришь с ровесниками – так никто настоящую жизнь и не устроил, не нашли счастья в городах... Если бы не задавили налогами, а ещё раньше – не растолкали бы самых толковых мужиков по «Котлованам», каждый бы нашёл здесь своё счастье. Да, оскудение, запустение и оскудение...
Бабушка встретила нас на крылечке. Лапти наши расползлись и промокли. На ступенях крыльца стояли от ног лужи.
– Ой-ой, грибы-то какие хорошие, – дивилась бабка, перебирая в корзинах. – Да все дубо-овые, да какие ядрёные, свежие, поджаристые, звонкие, как шшелчок... Да это вы где же набрали-то?.. А я хожу-хожу, карга старая...
Я смотрел на неё, на отца, и почему-то щемило сердце от жалости к ним.
– Знаешь, – неожиданно сказал отец, – я иногда думаю, почему человек так ненавидит себе подобных? Полтора миллиарда людей на Земле голодают, умирают от голода... А в Джорджии, в США, некто миллиардер за громадные деньги выставил «скрижали» из огромных гранитных плит: «Памятник смерти». На них запланировано сократить население более чем в двенадцать раз!.. Планы – злее фашистских!.. Так и жди: или чуму напустят, или нейтронную бомбу взорвут, или что ещё...
Бабушка по-своему поняла. Она сказала: «Живите, живите да радуйтесь. А то скоро свет-конец. И в Писании про то говорится. Да вы ещё сами себе отпуск возьмите, и погуляете ещё. По мобильному-то своему позвоните: остаёмся, мол, ещё у бабули, и побудем у неё. У Прокофия и ружьецо есть. Как тетёрки-то по хлебу летают, только фы-рр, фырр, фырр... А кабаны все поля изрыли»...
Так она долго сидела и мыла наши грибы, с улыбкой тихой радости на устах, и приговаривала: «Живите радостно, хорошо живите, а то скоро свет-конец...».
– Спешите жить!.. Так, Полина Тимофеевна? – улыбнулся отец словам тёщи и стал закуривать влажную сигарету, зачем-то глубокомысленно и тихо проговаривая: – Спешите... Да-а.
Василий Киляков
Важные сообщения
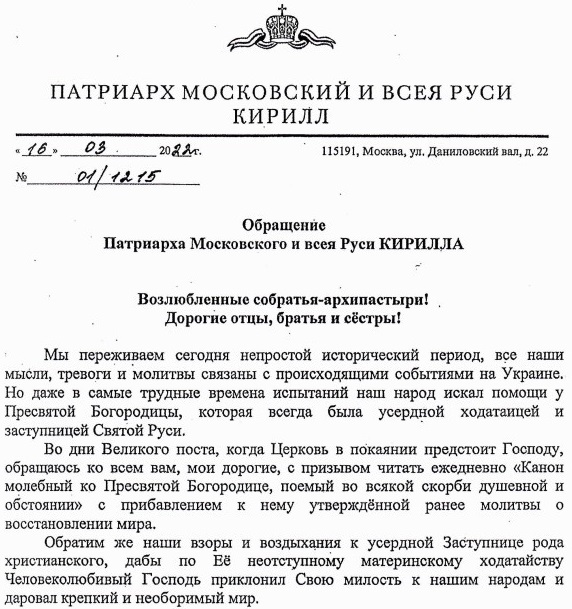
ВО СЛАВУ БОЖИЮ!
Дорогие братья и сестры!
Вот уже несколько лет средствами и трудами православного народа совершается строительство храма во имя святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского. Адрес: г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А. В настоящее время Богослужения совершаются в нижнем приделе храма. Сейчас ведётся сбор пожертвований на оштукатуривание стен храма.
По православной традиции на каждом Богослужении в храме будет совершаться молитва о строителях, благоукрасителях и жертвователях святаго храма сего. И это будет столько лет, сколько будет стоять храм. Пожертвования, пожалуйста, переводите с пометкой «на строительство храма» на карту СБ 5469 1300 1724 1736 она привязана к номеру тел. 89518604040
Адрес храма: РФ, г. Воронеж, ул. Тепличная, 22-А
Телефон храма: (8-473) 22 608 68
Приходской сайт:
http://www.snt-antonius.ru
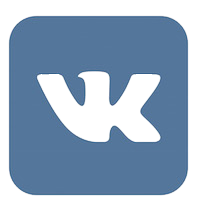

Эл. почта: snt-antonius@yandex.ru
По вопросам совершения треб (Крещение, освящение квартиры, дома или машины, Отпевание, Венчание, Соборование и Причащение на дому болящих) можно обратиться к священикам храма по телефонам: 8-951-860-40-40 Протоиерей Николай Бабич - настоятель храма 8-919-185-78-45 Иерей Владислав Петелин - клирик храма
По воскресеньям в 11.00 - молодёжка в Антониевском храме.
Приглашаем всех интересующихся, любопытных и желающих поближе познакомиться с самым интересным, радостным и дружелюбным миром - миром Православия!
Просьба о пожертвовании
на "Вестник".